
 Есть мнение, что литература вырастает из кризиса. Как недавно заметил в одном из блогопостов на сайте «Автор Тудей» писатель и футуролог Андрей Столяров, «если всё у человека нормально, то он ни стихов, ни прозы не пишет».
Есть мнение, что литература вырастает из кризиса. Как недавно заметил в одном из блогопостов на сайте «Автор Тудей» писатель и футуролог Андрей Столяров, «если всё у человека нормально, то он ни стихов, ни прозы не пишет».
Творчество – ответ на вызов бытия, утверждает Ролло Мэй в книге «Мужество творить». Мужество – возможность осуществления. Жизненный же кризис всегда предполагает разлом, раскол, бифуркацию линий развития, и мужеству писателя сложно не удивляться: одной рукой прокладывая себе путь, другой – он пишет путеводитель по дебрям сознания, а зачастую и бессознательного...
А третьей рукой отмахивается от кризиса.
Кризис вездесущ и многолик. Злонамерен.
Закономерен.
Многообразие кризисов хочется упорядочить – хочется, но вряд ли возможно, ведь вслед за Эвальдом Фридриховичем Зеером, приходится признать, что есть кризисы нормативные (прогнозируемые) – надёжные как швейцарские часы, и ненормативные – подчиняюшиеся лишь теории вероятности, а чаще – как раз таки невероятности.
Какие же нормативные кризисы грозят автору?
Чаще всего они связаны с вечным конфликтом «хочу» и «могу». Если сопоставить стадии профессионального саморазвития и гипотетический писательский путь (сопоставить, разумеется, ненаучно), то можно попробовать предсказать ямы и буераки, подстерегающие автора на его тернистой виртуальной тропинке.
Сразу отмечу: наша фантазия коснётся преимущественно внешних, социальных аспектов кризиса. Внутренние же процессы намного сложнее и требуют отдельного разбора.
1. Стадия оптации – кризис «Быть иль не быть?»

Оптация – это выбор. С одной стороны, настрой здесь, как правило, восторженно-романтический. Что такое текст как не семечко нового мира? «Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь...»
Но мы-то говорим о кризисах. А значит...
Танцы самооценки, кульбиты самовосприятия... Всё это – следствие трансформации идентичности. «Внимание: ведутся строительные работы! Застройщик ООО ‘Толстоевский’»
Писатель или автор? Маслоу говорил о «подростковой застенчивости», мешающей человеку найти себя. Юноша стыдится нежности, автор – серьёзности и трепетного отношения к новому делу. Ну ясен пень, никто не хочет компроментировать себя унылым таблом.
Но у хиханек есть и оборотная сторона, чреватая творческим маргинализмом. «Я не я, клавиатура не моя. Ошибки? А чего вы хотели – я вам чо, Пушкин? Улыбайтесь, господа, улыбайтесь! Все кринжовые вещи делаются с серьёзным лицом...»
Итог понятен.
Зачеркнув себя, автор с разгону врезается в первый творческий айсберг. Имя ему – обесценивание. Результат – белый лист. «Ну а чего? – услужливо подсвистит подсознание. – Кто не Пушкин, тот Хлопушкин. Как вы яхту назовёте, так она и поплывёт...»
2. Этап самоутверждения – «Значит, не моё»
Поиск «изюминки», «фишечки» – и первое обломинго. «КГ/АМ» в комментариях, отказ из издательства, пролёт на конкурсе, инфернальное хихиканье брата – всё может стать соломинкой, которая переломит хребет будущему литературному слону.
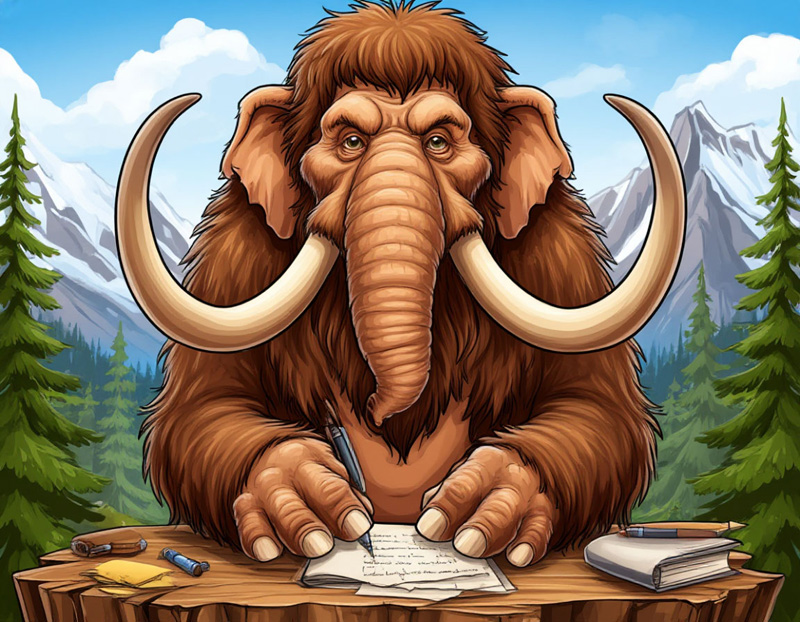
Собратья-авторы сочувственно кивнут: первый читатель важен! Его оценка – знак качества на домашнюю выпечку. «Я что-то написал, – мнётся автор. – Но не знаю, что». В этот момент он особенно уязвим. И глубина кризиса – результат заушения и форумного заплевания – успешно профилактируется литрами своевременно оказанной дружеской помощи.
3. Начало выработки индивидуального стиля деятельности – «А как?» и «Да пошли вы!»
Упражнение и освоение чужих писательских инструментов на первых порах порождает многие разочарования. «Нет, я не Байрон, я другой!». Автор критически взирает на продукты новичков и гигантов. «Знаем мы ваши писательские союзы!» Поразительно, но ложка плохо режет, а отвёртка с трудом забивает гвозди.
Мучительно и со скрипом автор подбирает арсенал под себя. Заимствует. Иногда изобретает. Чаще всего, продукт творческих потуг подозрительно смахивает на велосипед. Но велосипед крафтовый – кривоватый, но уже почти как взрослый, с почти ходибельными колёсами. На нём уже почти можно доехать до финиша...
А в процессе – кого-нибудь задавить.
4. Первичная профессионализация – «Я всё же Байрон, я ого!»
Кризис роста и кризис карьеры совокупно тюкают автора по темечку. Темечко просит лавров. Но портфолио не скомпоновано, рука не набита, и издатель молчит или снисходительно-мягко говорит: «сожалею, но коммерческий потенциал вашего текста...»
Закусив губу, автор начинает работать на репутацию. Здесь тоже много подводных камней. Литературные мастерские, конкурсы, мастер-классы и коучинг дают практику, но грозят утратой собственного голоса. Защита же этого голоса обходится дорого.
Задачка из учебника прикладного интернет-троллинга: «Сколько часов потребуется, чтобы объяснить анонимусу, что он не прав?»
Правильный ответ: «Вся жизнь. Выключите интернет и позвоните родителям».
5. Вторичная профессионализация – кризис стагнации.
Многое уже сделано – но этого оказывается недостаточно. Профпис удивляется: творческий взлёт упёрся в плато. Издатели здороваются, но как-то без уважения. И самое главное: наработанный стиль начинает жать. Автор ловит себя на повторении.
Ситуация осложняется тем, что творческое сообщество пирамидально.  «Старички» ещё в обойме и не собираются срываться с насиженных мест. Это справедливо и для оффлайн-обществ, и для электронных порталов, для всего текстового рынка (да-да, на этой стадии рвотная реакция на слово «рынок» уступает место терпеливому принятию).
«Старички» ещё в обойме и не собираются срываться с насиженных мест. Это справедливо и для оффлайн-обществ, и для электронных порталов, для всего текстового рынка (да-да, на этой стадии рвотная реакция на слово «рынок» уступает место терпеливому принятию).
Что с этим делать?
Лекарство как всегда подбирается индивидуально. Кто-то планомерно и экстенсивно захватывает читательское внимание. Кто-то ставит всё на инновации. Кувыркается на арене. Оттачивает слог до немыслимой яркости...
А кто-то – кладёт стило, выключает планшет и говорит: «С меня хватит».
Будем надеяться, он ещё передумает.
6. Мастер-эксперт – «Мэтр не мамонт»
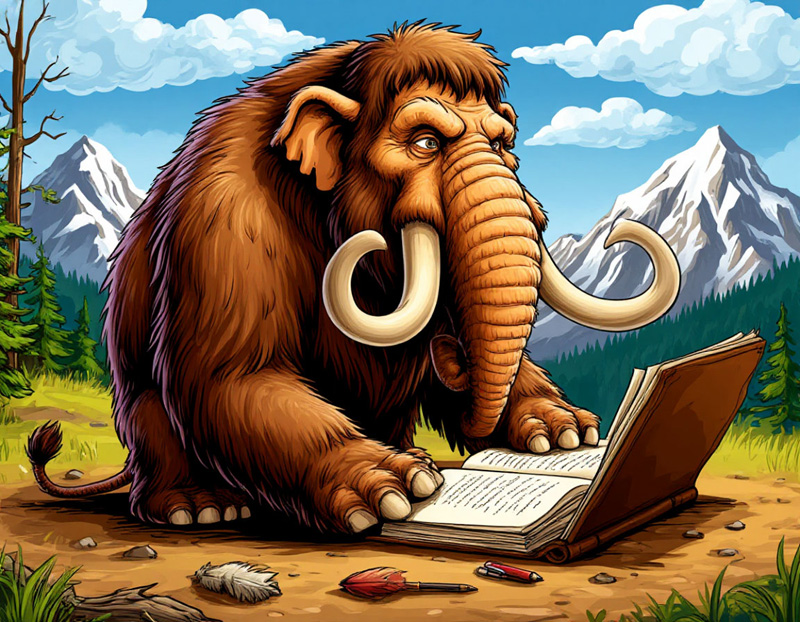
И вот наступает время, когда три кита «Что я хочу сказать?» «Как?» и «Кому?» уже разделаны и скворчат на авторской сковородке. Автор-первопроходец, миновав стадию асфальтоукладчика, с гордостью взирает на проделанный путь.
Но с гордостью ли?
Создатель одной из периодизаций профессионального развития Э.Ф. Зеер подчёркивает: психологическое состояние мастера зачастую сложнее и тяжелее, нежели состояние новичка. Многие знания приносят печали. Мастер уже знает свои руки и кисти, знает скорость своей обучаемости, более реалистично оценивает перспективу, на которую – увы! – наслаиваются многие внешние кризисы (семья, здоровье, быт...) Закалённый в боях характер кристаллизуется, обрастает острыми гранями. Будучи пристрастным к самому себе, мэтр строг с коллегами и беспощаден к новичкам: он уже забыл, какой хрупкой бывает щенячья юность и как это ценно для будущей зрелости.
Кризис самоактуализации заявляет о себе не только проблемой востребованности, но и главным вопросом, обращённым к себе:
Кто я?
Что я оставлю после себя?
Всё ли я сказал?
Творчество – это порождение нового.
А роды сопровождаются болью.
И вот здесь, на этой (безусловно позитивной) ноте, хочется или взрыднуть или возмущенно спросить: так что же, вся жизнь состоит из кризисов? И я – а вместе со мной тесные ряды отечественных и зарубежных, научных и инстаграммных психологов – кивну: истинно так.
Кризисы неизбежны, как неизбежен треск спортивной формы, уже не вмещающий подкачанное, скульптурно оформленное содержание. Кризис – маркер движения. И творческому кризису – кризису чистого или испорченного помарками, бунтующего листа всегда сопутствует трансформация смысла.
Смысла, ради которого и рождается Автор.
 Рейнмастер
Рейнмастер
Мы используем Яндекс Метрику
Этот сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, предоставляемый ООО «ЯНДЕКС», с использованием файлов cookie для анализа пользовательской активности. Собранная информация не идентифицирует вас, но помогает нам улучшить работу сайта. Информация может передаваться и храниться на серверах Яндекса в РФ и ЕЭЗ и будет обработана согласно Условиям использования Яндекс Метрики.
Вы можете отключить cookie в настройках браузера или воспользоваться инструментом отказа. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обработкой данных в рамках ФЗ-152, политикой конфиденциальности и даете согласие на обработку персональных данных.
